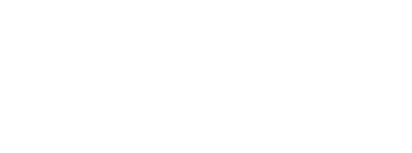Когда мне давал первые уроки композиции мой замечательный педагог Валерий Пигузов, он говорил мне, что не стоит стараться вложить в текущее сочинение всё, что у тебя накипело на душе в данный момент. Это невозможно, поскольку жизнь в искусстве – непрерывно длящийся и совершенно неуправляемый тобой процесс. Я крепко усвоил эту мысль, но сейчас, принимаясь за записки о моём друге Сергее Терханове, я чувствую, что во мне почему-то ожило именно это желание – написать всё и сразу. Видимо, оно появилось для того, чтобы заглушить боль утраты. Что ж, я постараюсь забыть об этом желании и напишу лишь то, что живо во мне сегодня, понимая всю зыбкость своих нынешних ощущений. Ведь мои отношения с Серёжей будут, я уверен, развиваться до конца моей жизни. Как непрерывно текущая музыкальная форма.
Мы познакомились с Серёжей осенью 1974 года в коридоре общежития Горьковской консерватории. Знакомство произошло как-то само собой, никто нас не знакомил, просто случайно заговорили о чём-то. А о чём? Мне кажется, что заговорили о «Битлз». На эту тему мы могли говорить часами. И вот уже в каком-то пустом классе консерватории мы уже поём битловские песни, аккомпанируя на фортепиано. А потом, совершенно для меня неожиданно, Серёжа спел свою песню, я сейчас уже не вспомню какую, но это и неважно, потому что все его песни, как потом оказалось, были одинаково хороши. Удивительно! Но вдвойне удивительно было то, что я впервые видел перед собой человека, который сочиняет музыку.
Я вырос в Перми, в семье музыкантов. Музыка звучала у нас постоянно, но так получилось, что в нашем городе не было композиторов. Не было, и всё! И, хотя, поступая в музыкальную школу, я пел свои собственные песни, продолжения это не имело, композицию у нас в Перми никто не преподавал. И вдруг я познакомился с настоящим действующим композитором. Да ещё как действующим! Музыка буквально «рвалась» из Серёжи. Песни возникали чуть ли не каждый день и чуть ли не по любому поводу. При этом Серёжа писал песни на собственные стихи, что, конечно же, очень сокращало время рождения каждого нового сочинения. Он мог остановиться прямо на улице, немного постоять и сказать: «Придумал». Дело было сделано.
И ещё, и ещё, и ещё новая песня!
Нужно сказать, что Серёжины стихи, на первый взгляд, очень просты и незатейливы, но я очень хорошо знаю, как дорого стоит эта простота. И ещё - пронзительная чистота. Стихи и музыка в Серёжиных песнях абсолютно гармоничны по отношению друг к другу, один компонент рождает другой, одно вытекает из другого. И я, было, вознамерился подробно разобрать эту поразительную особенность Серёжиных песен и рассказать, как это сделано технически и композиционно, но решил, что не буду этого делать. Пусть они звучат и парят необъяснёнными.
(Вот сижу и пишу воспоминания о Серёже, смотрю на себя со стороны, а душа по-прежнему не верит. И кажется, будто всё это происходит не со мной, и быть всего этого – не может!)
С той поры стали мы с Серёжей неразлучными, всё свободное время проводили вместе. Мы хорошо и с удовольствием учились, любое дело пытались доводить до конца, а занятия в консерватории отнимали очень много времени. Мы подвергали анализу весь окружавший нас мир и при этом знали друг о друге практически всё. Под влиянием Серёжи я тоже начал по поводу и без повода придумывать музыку и стихи, правда, они у меня получались отдельно друг от друга.
Кстати, Серёжа не говорил «сочинять», он говорил «придумывать». Слово «сочинять» казалось ему излишне патетичным. Его песни пела вся консерватория (вся конса!), народ гордый, самолюбивый и критично настроенный, любовь которого заслужить очень и очень трудно. Как Серёже при всей его публичности удавалось оставаться скромным и необыкновенно отзывчивым человеком, мне до сих пор не понятно!
Вскоре мы с Серёжей (я – пианист, Серёжа тогда – теоретик) познакомились и по-настоящему подружились с баянистом Сергеем Иванченко. И стало нас три Сергея – не разлей вода. Серёжа Иванченко, балагур, весельчак и при этом человек необыкновенно одарённый и глубокий, своим проникновенным творчеством значительно увеличил общее число сочиняемых нами стихов и песен. Мы искали взаимного общения в любую свободную минуту. Иной раз нам не хватало дня, и мы продолжали наши бесконечные беседы ночью в умывальной комнате третьего этажа общежития. Там мы никому не мешали и могли изъясняться на любом языке и на любой громкости. Чего мы только не переговорили там! Нам было интересно искусство во всех его проявлениях. Поэзия, живопись, театр, техника композиции, свежие новости нашей любимой консерватории – всё подвергалось подробнейшему обсуждению. При этом мы много шутили и смеялись, но выводы наши, как правило, были весьма серьёзны. Эти выводы бередят мне душу до сих пор, и, Боже, как я рад этому! Теперь-то я знаю, чем мы тогда занимались: мы строили, выстраивали друг друга. Во многом, как мне кажется, эти бдения определили нашу последующую жизнь.
А в какой-то момент появился четвёртый участник нашей компании – кларнетист Ваня Ламзов. С приходом Вани, человека основательного, женатого, значительно изменился образ нашей коллективной мысли. Нам, трём Сергеям, юношам, больше витающим в облаках, чем стоящим на земле, открылись многие необходимые земные «истины»: как зажечь костёр, как поставить палатку, какую еду взять с собой в поход, в конце концов, как быть полезным окружающим тебя людям. В скорбный осенний день, в октябре 2014 года, после долгой разлуки два Сергея и Иван наконец-то встретились в городе Саранске, но наш дорогой третий Сергей, Серёжа, не видел и не слышал нас. Или же видел и слышал, но как-то иначе…
Вспоминается авторский концерт Серёжи, который ему удалось организовать в пору своей учёбы. Сам факт организации подобного мероприятия в суровом 1975 году просто невероятен! Этот концерт состоялся в маленьком Театральном зале Горьковской консерватории. (Явственно слышу голоса моих друзей: «Как войдёшь в консу, так почти сразу налево». Да, да, всё именно так, дорогие мои друзья!)
Так вот, песни Серёжи, а их прозвучало примерно двадцать, исполняли студенты вокального и дирижёрско-хорового факультетов. Звучало всё прекрасно, ребята пели вдохновенно и с большой любовью. (А как ещё можно петь Серёжины песни?) Самым знаменательным в том концерте для меня было то, что практически все песни исполнялись одновременно не только на сцене, но и в зале. Пела вся публика. Это был тихий и ласковый триумф. Дорогой Серёженька, ты стал тогда поистине народным композитором!
Однажды Серёжа познакомил меня с человеком, с которым меня до сих пор связывают неразрывная тёплая дружба и большое количество совместных работ. Это замечательный, тончайший нижегородский театральный режиссёр Владимир Кулагин. Серёжа представил мне его как человека, «который знает о театре всё». Мы поздоровались. Серёжа и Володя стали обсуждать спектакль, над которым они в это время работали. Спектакль назывался «Эй, кто-нибудь!» по пьесе Уильяма Сарояна. Так получилось, что та встреча изменила всю мою жизнь, и я очень скоро стал писать музыку для театра, и благодаря Серёже и Володе это продолжается по сей день.
Музыка в этом драматическом спектакле играла важнейшую роль, она была воздухом, сутью этого действа. Серёжа написал для него много прекрасных романтических песен, а «Ноктюрн» («Сколько звёзд») на его собственные стихи стала для всех, кто участвовал тогда в этом спектакле, путеводной звездой. Мы будем петь её, покуда живы:
***
Сколько звёзд подарил
Тихий вечер хрустальный!
Этот час нам поёт,
Как орган величавый,
О любви, о тебе и о нас.
Ты послушай небо,
Ты послушай звёзды.
Этот миг наполнен
Нежной красотой.
Оттого, что рядом,
Потому, что близко,
Потому, что близко
Взгляд любимый твой…
***
Передо мной лежит Серёжина рукописная партитура этой песни. В конце её - надпись: «Серёжке дорогому… Помни нас. 8 октября1982 года. Тера.»
Я помню, Серёжа, помню всё.
О том, как записывалась фонограмма к спектаклю «Эй, кто-нибудь!» можно написать целую повесть. Расскажу только, как всё это закончилось. Было две сессии в течение двух ночей подряд, проходило всё это без ведома администрации консерватории, так как арендовать студию официально тогда было невозможно. В те годы такой практики не было. Мы договорились со -звукорежиссёром студии, и он, послушав и по достоинству оценив Серёжину музыку, согласился провести эту запись тайком. Так вот, когда всё было сделано, участники записи, а их было немало, стараясь не шуметь, чтобы не разбудить ночного вахтёра, выкарабкивались из окна студии на улицу - в тёплое и влажное раннее весеннее горьковское утро. На душе у меня были свет и радость.
К сожалению, эта фонограмма не сохранилась.
Спектакль «Эй, кто-нибудь!», его яркая режиссура, прекрасная музыка и искренняя любовь зрителей создали новую общность – Горьковский молодёжный театр «Время», и наша «четвёрка», о которой я писал выше, с удовольствием влилась в его состав. Мы разрослись и расширились, какое счастье!
Когда Серёжа ушёл в армию, спектакль продолжал идти. И Серёжа прибегал к нам из армии на поклон. Обычно он переодевался в штатское, но его короткая причёска «сигнализировала»: я солдат! А если он не успевал переодеться, то и вовсе выходил на сцену в военной форме. Этому замечательному солдату заслуженно перепадала большая часть цветов и криков «Браво!».
А потом я уехал в Ленинград, и мы стали встречаться с Серёжей гораздо реже. Но это не значит, что мы тогда с Серёжей расстались. Мы писали друг другу, обменивались своей музыкой, ездили друг к другу в гости. Внутренне мы никогда не теряли друг друга. Я сверял по Серёже в моей жизни очень многое, даже и не рассказать, как это было важно для меня. Кто бы знал, как часто помогал он мне, находясь от меня далеко-далеко!
( Как мне нравится произносить сейчас это слово – друг! Дорогой ты мой друг!)
Мне посчастливилось быть вместе с Серёжей на нескольких петербургских хоровых концертах. Это было особенное счастье. И по этому поводу хорошо бы написать отдельно.
А ещё в последнее время мы много говорили по телефону. И было, как тогда - в общежитии славной Горьковской консерватории. Мысль и чувство текли свободно и непредвзято. Как мне не хватает тебя, Серёжа, и как с каждым днём я всё яснее чувствую, насколько ты незаменим.
Как хорошо, что через месяц наступит новая весна! Правда же, Тера?